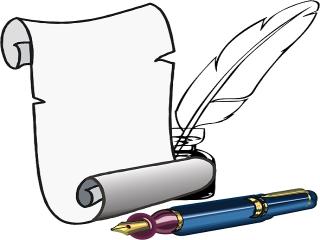ЖАЛКО ВСЕХ
Витки гегелевской спирали едва ли коррелируют со апрельским солнечным разливом, расплав коего славно заливает привычную сумму дворов, переулков, проезжающие, точно плавно проплывающие трамваи, нагромождение различных домов.
— Посмотри на жизнь вокруг! Какой тут Гегель? Какие витки спирали?
— Не надо принимать суету и товарное изобилие за подлинную жизнь.
Магазин, торгующий рыбками, аквариумами, приспособлениями для аквариумистики, тянущийся и разветвляющийся внутри чуть ли не на километр.
Несколько кафе подряд – с широкими стеклами, так что кажется, сидишь на улице.
Несколько продовольственных магазинов.
Цветочная лавка.
И проч.
Товарное изобилие, мерно съедающее вашу жизнь, сути которой вы всё равно не знаете, полагая её – оную суть – в созидание бытового благополучия, да пусть и в ращении детей.
Как представить потусторонние спуски, где должны быть световые волны, сияющие дуги, провалы в пепельно мерцающие прораны, взлёты и нисхождения?
Спирали жизни вьются, начиняясь содержанием новым; потоки машин – как металлический, многоглазый дракон современности, чьё движение необходимо ей, а зачем – не ответишь.
Зевнув, некто спрашивает приятеля:
— Ну что, на выставку пойдём?
Живут рядом с ВДНХ, выходят пройтись, но школу, хотя и одноклассники, вспоминают редко, ибо им – под пятьдесят уже.
— Темна вода во облацех, - тихо бормочет один.
— Что-что? Так на выставку?
Они минуют длинные кирпичные дома.
— А куда ещё-то? Туда.
Роскошная, как Монако, постепенно наливается весенней силой, и скоро фонтаны заблещут великолепной, пенисто-шумной водою, чьи взлёты прекрасны, а падения безболезненны.
Встречные люди не представляются частью единого целого – жизнь индивидуальна, и идея индивидуализма медленно привела к торжеству прагматизма – тяжёлому, как ярмо.
- Купим вина к ужину?
— Не-а… Завтра на службу вставать.
Мужу хотелось бы водки, хотелось никуда не идти – ни завтра, никогда, но сынишка держит его за руку, и что-то болтает жена, и он понимает, что ходить ему на эту нудную, осточертевшую службу до скончания века – собственного, разумеется. Он мрачнеет, ни шаловливость малыша, ни апрельское солнце не радует больше.
Длится воскресенье – как длилось карусельное детство, где молодые родители возили тебя к морю, где всё было понятней, чем теперь, когда тебя под пятьдесят.
— А у меня не было никаких циклов в жизни – так, сереющая клёклая масса всего…
— Физиологи говорят, что за семь лет полностью обновляется клеточный состав, и…
— Ну, клеточный, может, и обновляется, но при чём тут конкретика индивидуального существования?
— Всё в жизни взаимосвязано.
— Ага. Только не понятно как.
— Через нити ощущений и теплоту рукопожатий.
Зевок в ответ.
Не хочется продолжать разговор.
Приятно думать о мироздании, как о едином организме: только вообразить ли сие?
…проходил мимо узкого длинного двора, на табуретах, возле одного из подъездов, стояла убогая лодка гроба, окружённая не большим количеством людей, автобус ждал, старуха рыдала.
Сколько раз хоронил близких – и не сосчитаешь!
…ибо жалко всех, и медленно прохождение сквозь время и пространство, что и названо жизнью, не обещает ответов на с детства мучающие вопросы.
Темна вода во облацех.
День апрельского сияния, воскресный день, предваряющий новую неделю, которая скорее всего заурядностью своею не будет ничем отличаться от прошлых, прожитых недель.
Возле подъезда на скамейке сидит сосед, курит, глядит на котельную, чьи стены расписаны берёзовыми рощами.
Несколько ничего не значащих фраз, какими перебросишься с ним, вовсе не изменят настроения, какое и самому не очень понятно.
СОН И СЛУЧАЙ
Громада собора – явно не православного – возникла из завихрений метели, в которых нравилось блуждать.
Не знал о существованье подобного – но город велик, и мало ли о чём не знаешь, таимом в его недрах?
Собор темнел, стены его точно искрились от снежных потоков, в окнах – высоких и стрельчатых – желтел медово свет; и снежные струи завивались, играя, суля нечто необыкновенное.
Захотелось зайти, хотя отношения его с религией были темны и самому не понятны.
Ступеньки отчасти замело, но основа их, сердцевинный пласт были не тронутыми, и он поднимался к двери, более похожей на врата, чтобы отворив их оказаться во внезапном шуме и гуле.
Он смотрел на вторые открытые двери и видел атлетический зал – великолепно оборудованный со станками и штангами на помостах, и рушились с грохотом снаряды, и могучие атлеты с телами, перевитыми мышцами, плавно передвигались в золотисто-жёлтом освещении.
Один из них в пёстром спортивном костюме шёл к нему, улыбаясь, а он – он нелепо топтался, ничего не понимая.
— Вы хотите записаться в наш клуб? Хотите уделить время своему телу?
Штанга вновь обрушилась на помост, и некто довольно потирал литые плиты грудных мышц.
— Я? – тихо и потрясённо переспросил он. – Я думал о душе, вообще-то…
— Да бросьте вы! Что она такое? Где гнездится? То ли дело тело – смотрите-ка! – и тренер распахнул куртку, за которой покачивалась, мерцая телесно, пустота…
Тут он проснулся.
Широко текли в окно апрельские лучи, и он подумал, что всякий луч, лучше любого пути – во сто крат.
Он встал, пошёл умываться.
Вспомнилось ещё: зимне-церковное: когда-то, довольно давно ходил на ВДНХ, в недавно построенную часовню: она белела великолепным кристаллом, и столп света, казалось, поднимается от креста.
Она была проста во внутреннем своём убранстве, и мало кто забредал в то время сюда.
Часовню открывала пожилая женщина, сидевшая в деревянной будочке, торговавшая литературой, свечами, всевозможной атрибутикой; и вот, как-то раз, он, придя в то время, когда часовня должна бы работать, остановился, удивлённо глядя на запертую дверь.
Он отошёл, любуясь пенными сугробами, покурил; он вновь двинулся по дорожке к часовне, и тут из-за будочки вышла женщина, спросила:
— Вы в храм?
Он кивнул.
— Знаете, такой случай… - зачастила она. – Кто-то напихал спичек в замок, а ключи у меня там, вы мне не поможете?
Он пошёл за ней, подергал ручку, осмотрел испорченный, забитый не только спичками, но и каким-то сором замок…
— Знаете, - сказал, - я могу посильнее дверь рвануть, но тогда придётся ремонтировать…
— Ой, вы рваните, а я потом рабочих вызову.
И он рванул.
И дверь отошла.
И пожилая женщина открыла ему храм.
Он был склонен видеть символ в случившемся – символ пути; он был склонен видеть его тогда, пятнадцать лет назад – как теперь он не видит никакого пути, дарованного ему, и никаких символов не ищет более ни в чём.
Но случай помнит – как запомнит сегодняшний, странный сон.
ПУСТЬ…
Разволновался от новой публикации, найденной в интернете – всё не привыкнет никак за двадцать-то лет… Уже двадцать один год…
Жена просила с карточек Фаберлика, где работала, зарабатывая в отличие от него – бедолаги-пиита, стереть защитные полоски, и он, взяв рекламную газету и выудив из кармана металлический рублик, устроился на диване, надеясь, что пустое, монотонное занятие разгрузит голову.
Серебристая крошка ложилась на пёстрые квадраты и прямоугольники различных реклам, и вспомнилось отчего-то, как ходил на фокус-группу однажды – ходил, чтобы получить тысячу, точно уверенный, что не пройдёт на вторую часть так называемого тренинга, состоящего из болтовни про чай – не пройдёт, потому что знает, как ответить, чтобы не попасть; но старый московский особнячок, напоминавший резной теремок, высветлился вдруг в памяти, и лестница, стержнем пронизывавшая его, и холл просторный, и обширная комната, куда собирались люди – вот молодая, с вертикальным лицом девушка, за ней парень с лопатообразной физиономией – комната, в которой, заполнив анкету, сидел, читал детектив, ожидая, когда зайдёт объёмная тётка, назовёт тех, кто прошёл, а ему и нескольким другим выдаст конверты с тысячей.
… карточки закончились; он перевязал их резинкой, стряхнул – уже на кухне – в мусорное ведро серебристые крошки, бросил газету на полку.
Апрель играл холодом, и мелодия была тусклая, стёртая…
Оделся, пошёл бродить, накручивая на витки сознания витки московских великолепных дворов: замечательных, несмотря на стереотипные дома, наборами подробностей, что чётко врезались в память…
Под аркой две чёрных полоски не растаявшего льда.
Пузатый, рослый дядька обгоняет его, спеша в неизвестность.
Мазки и брызги жалкой зелени превратятся дней через десять в замечательную весеннюю массу; и солнце пробилось, раздвинуло тусклый слой низкого неба…
Но холодно всё же было – будто настойчиво толкало домой, превращая прогулку во…
Трудно сказать во что.
В определённом возрасте трудно вообще сказать что-либо определённо, ибо опыт наслаивается на такое количество ошибок, что грядущее туманнее, чем в юности.
Дома ждали чистые поля монитора, как некогда ждала белые листы бумаги.
Сказка ворочалась, не законченная, жаждала продолжения, уже звучавшего в мозгу; да ещё стишок, не дописанный с утра, властно требовал воплощения.
Выпив кофе (сорвите газовую хризантему! Задержите момент), он покурил на лоджии, глядя в хитросплетение тополиных веток – точно лабиринт, подвешенный в воздухе, и сел за монитор.
Сказка ожила, переплетаясь со стихотворением: совместить ли, коли совместились в голове?
Пусть один из персонажей говорит стихами.
Пусть всё идёт, как идёт, мир плывёт апрельским, достаточно неприятным холодом, и дни идут к сумеркам, чтобы прокатившись на карусели ночи, вернуться новыми днями, достаточно похожими друг на друга, но всё равно имеющими особость, своеобычие…
Пусть идёт, как идёт, и сказка развивается своим чередом, и трамваи едут мимо дома, и дети кричат на пёстрой площадке во дворе, и взлетают вороны, оставляя под собой легко пружинящие сучья…
Пусть…
ПЕРЕМЕНА
-Своих лечим через себя, - сказала тоненькая с красным от простуды носом якобы ясновидящая в магическом салоне, и улыбнулась.
Тесный коридор, где на стенах висели пустые, не имеющие никакого излучения иконы, отливая фальшивым золотом, разветвлялся, переходя в несколько комнат, и вот в одной из них странного весьма человека принимает она.
Чем странен?
Он зыбок, как будто, - лицо его точно задёргивается шторкой марева, расплывается, потом конденсируется опять, и ей вдруг кажется, что вместо руки у него клешня.
Она зажмуривается, и у неё начинает кружиться голова, а когда открывает глаза, видит перед собой обычного, но зло улыбающегося – ухмыляющегося, скорее человека, чей рот больше напоминает хирургический надрез.
- Что? – спрашивает он без всякого сочувствия. – Болит головка-то?
Она кивает непроизвольно, чувствуя, что головокружение прошло, а вместо него в голову, точно в пустую тыкву, кто-то насыпал шарики боли, что катаются, стукаясь друг о друга – разве что искры не сыплются из глаз.
— Сейчас ещё сильнее будет.
Он щёлкает пальцами в воздухе, мелькает тень чёрного рыцаря в плаще, потом раскрывается прореха в воздухе, и шариков в голове становится больше, они заполняют весь череп, и мнится, твёрдая кость треснет сейчас, выпустив на волю состав жёлто-янтарного, серого в красных прожилках мозга.
Она вскрикивает, хватаясь руками за край столешницы.
- Ну, не кричи, не кричи… ясновидящая, - говорит человек. – Сейчас легче станет.
Шарики лопаются в голове, уменьшаются в объёме, растекаются плавным туманом, от какого становится сладко, как во сне; она улыбается блаженно, как идиотка.
— Как там с ясновидением? Не прошло ещё?
Он больше не ухмыляется, смотрит тяжело, мрачно, и глаза у него – серо-стальные, как у пулемётчика, этого косаря смерти.
— Так что знай, - говорит он веско, будто гирю на пол опускает, - на каждое жульничество найдётся укрощающая сила.
Круги больше не плывут перед глазами женщины, ловким враньём (впрочем, среди прочих) зарабатывающей хлеб, она ничего не понимает – всегда считала и колдовство, и эзотерику обманом, нагромождением слов, а вот, поди…
— Кто вы? – спрашивает она.
— Тот, кто раздаёт заслуженное. Уволишься отсюда, пойдёшь в детский сад – это по тебе.
Она откидывается на стуле, засыпает.
— Оля, Оля! – кричит первым приведённый мальчик Андрюша – такой симпатичный, беленький, как ангел.
— Здравствуй, зайчик, - улыбается она. – Иди скорее ко мне.
Он бежит, он обнимает её, сидящую за столом, рисующую.
— Смотри какой слоник получается! Давай дорисуем вместе.
Отец заглядывает, здоровается с нею, прощается с малышом, уходит.
Она ждёт других детей.
На неё никогда не бывает никаких жалоб – дети ей: как живая поляна, как трепетные, ожившие цветы, как крохотные, чудные херувимы; они слушаются её, бегут к ней, часто не хотят уходить, и – редко-редко, зажмурившись на миг – вспоминает она, точно проносится чёрное облачко – салон, горящие свечи, пустые иконы, стеклянные шары, колокольчики, пучки сухих трав, и – обманутые люди: чередой, вереницей…
ВСЁ БУДЕТ ОДИНАКОВО, ХОТЯ ПО-РАЗНОМУ БОЛЬНО У ВСЕХ
Он спал днём, спал – не выросший, седобородый ребёнок, живущий в облаке мечтаний и собственного сочинительства, пожилой отец, так замирающий сердцем, когда малыш лепетал: Папа, папа…
Мама вошла в комнату, сказала: Тётя Люся Дубинчук умерла.
Он уже выплыл из сна, но сознанье было мутно, тяжело.
Спросил:
— Когда? Кто позвонил?
— Сегодня. Наташка звонила. Не знаю… На похороны сил нет идти, в церковь, если вот…
Он встал, пошёл в ванну умываться.
В голове вертелись лоскутки детских воспоминаний: старая пышная коммуналка, где жил ребёнком с молодыми родителями, дни рожденья его, когда собирались три семьи: Мартемьяновы, Дубинчуки, Левины; великолепно накрытые мамой столы, таинственно стреляющие половицы, пышная, наряженная ёлка сверкает огнями тонких болгарских игрушек – и он, играющий с детьми… Игорь Дубинчук, единственный сын, погиб в автокатастрофе четверть века назад, и мама, как могла поддерживала тогда Дубинчуков, часто ездила к ним, звала к себе в гости; потом общались просто, без повода, а затем у тёти Люси обнаружили рак, и она практически прекратило любое общение.
На кухне пили с мамою кофе.
— Она в больнице… или?
— Она, бывало, по десять раз в месяц в больнице лежала. Не жизнь уже, а мука… Из морга хоронить будут, да…
Отец умер тридцать лет назад.
Мартемьянова убили в начале девяностых, тогда же погиб и Игорь, и вот теперь…
Лента кино – лента жизни, и все выходят из кинотеатра.
— Дядя Витя тоже, наверное, уйдёт.
— Люся переживала очень за него. Как будет…
Всё будет одинаково, хотя по-разному больно у всех.
…отец, дядя Витя, дядя Валя Мартемьянов обладали профессиональными певческими голосами. Могли делать вокальную карьеру, но пошли по другим линиям, и каждый добивался многого на изломистом избранном поприще, но пенье объединяло их, и как звучали, как наполняли пространство, серебрясь, их голоса!
Как радостно были, когда собирались!
Он одевается – идти за малышом в детский сад: забирают раньше, ибо активный и очень подвижный мальчишка не ест там, кормят дома…
- Мам, каша малышу есть?
— Есть, сынок. Сейчас разогрею…
Двор пересекает, неся самокат: утром жена водит малыша на процедуры, а оттуда уже к другим деткам, а самокат он захватывает в эти дни с собою – малыш любит гонять.
Он переходит улицу, минует пёстрые витрины магазина, сворачивает в другой двор, идёт между двумя рядами переливающихся на солнце машин.
Банальности крутятся в голове.
Шум из группы – многоголосый, многорадостный; он заглядывает, и сначала не узнаёт Ольгу, воспитательницу: в костюме пирата убегает она от малышей, гоняющихся за ней восторженно.
— Пойдём домой, Андрюш?
Бежит, машет лапками, Папа пришёл, мой папа!
Собирает малыша, слегка путаясь в многообразии одёжек, и тот два раза соскакивает с отцовских колен, бежит, заглядывает в комнату их, как там?
— Может, остаться хочешь?
— Не, омой…
Они выходят, малыш вскакивает на самокат, несётся по двору детсада, в горке мусора у бордюра застревает колесо – и малыш шлёпается, и рыдает, захлёбываясь.
Вот, подхватив его, гладит, утешает, не видит синяков, или ссадины на лице; он утешает плачущего малыша, и взгляд его словно цепляется за траву, едва зеленеющую в конце апреля, за кустики, за разные пёстрые предметы детских площадок, и он думает – тяжело, нудно – что жизнь: всего лишь путь ко смерти.
Или – того хуже – просто отсрочка приговора.
Успокаивается малыш, встаёт на самокат, но едет потихоньку пока, хотя потом, за оградою сада, забыв падение, разгоняется опять…
ДИНОЗАВРЫ
Трицератопс, погрузив зелёно-кожистую, в буграх и наростах морду в заросли папоротник, обкусывает сочные листья, и даже хвост его мелко подрагивает от наслаждения.
Он не слышит тяжёлого гула, мощного движения, он почти пропустил приближение гигантской живой массы, тяжёлого массива плоти – тираннозавра.
Могучие нижние лапы выдирают когтями почву и мелкие корешки, а огромная пасть с кинжалами зубов уже раззявлена и нависает над увлёкшимся пищей трицератопсом. Он, однако, успел увернуться от челюстей гиганта, и, поднырнув под желтоватое брюхо последнего, поддел того рогом, неровно торчащим с клювообразного носа. Тираннозавр отступил на шаг, и вновь попробовал впиться в спину травоядного – так, чтобы хрустнул хребет, переломилась кость, и жаркое, пышное мясо дымно обнажилась, давая собой великолепную трапезу; но трицератопс успел увернуться, хвостом двинул по нижним лапам гиганта, и снова попробовал воспользоваться рогом… Он промахнулся, и третья попытка тираннозавра была успешной: кровь потекла по бокам противника, он захрипел, застонал…
Солнце густо, как расплавленное золото.
Вдалеке от битвы двух ящеров детёныш тираннозавра – беззащитный ещё – вышел на небольшую полянку, и страшный птерозавр, заметив его, приземлился, сложив крылья…
Ни тень, падающая с небес, ни сам спустившийся гигант не испугали несмышлёныша, он даже не успел задрать голову – длинный клюв захватил его, взметнул в высоту, и птерозавр заглотнула сытный комок плоти.
Ах, напрасно тираннозавр отец одолел сильного трицератопса! Детёнышу больше не нужна пища! Он сам стал ею! Несчастный малыш, которому не удалось вырасти…
Водные резервуары кипят жизнью – изгибается змея: о нет! Змей ещё не придумали – это шея плезиозавра, и хищная пасть распахнётся сейчас, ловя добычу…
В озёра, гладко отливающие синевой, заходят лениво-важные ходячие горы: диплодоки: никто не атакует их, хотя, казалось бы, такие массивы мяса, такой избыток гуляющей пищи…
Тянутся шеи, гиганты выходят на сушу, объедают листья, и хвосты волочатся за ними, оставляя длинные следы на песке…
…марки рассматривал в детстве: в советском, радужно-пионерском, сияющем детстве: марки с динозаврами любил чрезвычайно, и отец, стимулировавший всякое его увлечение, покупал их у спекулянтов, на набережной Шевченко, у магазина Филателия, где незаконность операций, придавая оттенок риска всему мероприятию, точно повышала ценность не частых серий с динозаврами…
Помнится только одна из них – Сан-Марино, марок пятнадцать было, не крупных, в однотонном стиле выполненных, и рассматривал долго-долго, сравнивал, пытался представить невозможную, доисторическую жизнь…
— Эй, папа, не цесно! – кричит его малыш: ибо ныне он (выросший ребёнок) и его сынок играют пластмассовыми динозаврами в футбол.
— Динозавробол у нас! – смеётся отец, построив воротца из двух конструкторов, и шесть динозавров, купленные утром, переходят из больших рук в маленькие и назад.
— Что не честно, малыш? Скорей лови шарик…
— Папа, эот поал! – мальчишка гордо поднимает вверх тираннозавра, чьим хвостом только что закатил в мячик в воротца.
— Молодец, сынок!
— Эот слоал! – и малыш поднимает стегозавра, хвостом которого были обрушены пёстрые кубики…
Марок нет давно – продал в своё время, нуждаясь в деньгах.
Игрушечных динозавров, или марок, да хоть и монет с их изображениями теперь полно.
Апрель выдался холодным, серым, мокрым; и сейчас дождит, и малыш сидит дома.
Он поднимает одну из игрушек, рассматривает внимательно, как отец в детстве рассматривал марки, потом тянет к отцу.
— Это ко?
— Это трицератопс, малыш! – отвечает отец, поглаживая красно-белую, бугристую спину, трогая маленький рог на носу – пока в абсолютно условном времени травоядный гигант поглощает папоротники, не ожидая нападения.