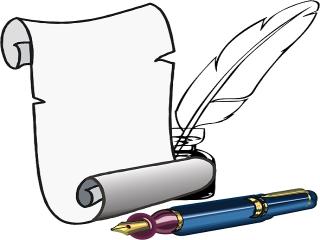ПОЭЗИЯ И ПРАГМАТИЗМ
Учитывая невозможность установить истоки поэзии – искра ли Божья возжигает костры? - специфика устройства нейронной сети плюс соответствующее воспитание даёт результаты – прагматизм, чьи истоки донельзя ясны, и в который современный мир погружён, как в расплавленный воск, не может позволить существовать ей вольно, широко.
Ибо она – поэзия – световым зарядом своим, ощущением надмирности, что щедро дарит читающему, правдой «музыки над нами» выводит индивидуума из слепого поля потребления – поля, столь необходимого для питания прагматизма.
Ибо поэзия утончает сознание до понимания того, что внешний мир, пусть и красивый, манящий, влекущий – отнюдь не вся реальность.
Концентрат языка, поэзия предлагает формулы жизни, противоречащие убогим штампам прагматизма, и, воспринятая глубоко, препятствует человеку благополучно устроиться в недрах брутальной яви, сохраняя в нём световую капсулу смысла.
Поэзия не нужна. Поэзия не важна. Прагматизму.
Важна человеку, чья иерархия ценностей больше похожа на подлинную, чем та, что навязывает вездесущая реклама.
О, конечно, поэзия в нынешней реальности не играет никакой роли, ибо даже отдельные имена, превозносимые теми, или иными литературными группами, известны только узкому кругу; но метафизическая оснастка глобального и роскошного поэтического корабля, сулит свет подлинности людям, сохранившим душу незамутнённой.
А эра прагматизма завершится – как завершается любая война, сколь бы кровопролитной и ожесточённой она ни была.
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО
В недрах ЦДЛ ты, бывавший тут раз, или два, запутался; открыв наугад дверь, стал подниматься по лестнице, уже чувствуя, что идёшь не туда, и у спускавшегося человека, имевшего вид завсегдатая, спросил, где малый зал.
— А что там сегодня? – вопросом на вопрос ответил он, остановившись.
— Вечер Британишского, - сказал ты.
И он показал, куда идти.
Владимира Львовича не знал в лицо, и, сидя на красном диванчике, думал, как бы не ошибиться, а потом, глядя на тонкого человека с роскошною бородою и светлой улыбкой, вокруг которого сразу вскипел человеческий водоворот, понял – это он.
Подошёл, переждав какое-то время. В сумке у Британишского были экземпляры его последней, только что вышедшей книги (93 год, с одной стороны можно издать всё, что угодно, с другой – денежные проблемы, и никому уже ничего не надо), и на вечер свой пригласил тебя вчера, когда час проговорили по телефону, перебирая имена иностранных поэтов, которых он переводил, а ты читал…
Вот он надписывает белую свою, снежную книгу, вот он говорит:
— Надеюсь, вы до своих доживёте…
(Доживу, только никакого значения это иметь не будет).
Строки Британишского, сочетаясь в словесные формулы, ясные и красивые, давали стихи, которым место в антологиях - например:
Законченность. Великолепная мудрость ощущения. Совершенство краткости.
Британишский обогащал мир русской поэзии так мощно, вводя в него миры польские, американские.
Чужие цветы распускались естественным счастьем в родном саду.
— Я будущее русской поэзии вижу только в верлибре, - сказал тебе как-то. – Классический стих настолько истрёпан, что ждать от него многого не приходится. Тем не менее, сам писал именно классически – и классически великолепно.
… дарящие драгоценности, уходят, известные такому ограниченному числу людей, что грустно становиться!
Человеки, перестаньте глотать гнусное мыло сериалов и потреблять несъедобную продукцию шоу-бизнеса! Перестаньте глупеть! Драгоценное рядом – увидьте, наконец, возьмите!
Ну да, поэзия не поможет вам обогатиться – внешне. А внутренне?
Кто измеряет световые кванты, несомые ею?
Мощно мерцают и сверкают они, ярко переливаются в сумме сделанного Владимиром Львовичем Британишским.
ЗЕМНАЯ ЛОГИКА
Сквозная, очищенная от снега дорожка, уложенная плиткой, точно пронизывала двор дома – огромного, как целая страна, - и малышок, катя на машине, въехал на дорожку, точно отправившись вверх: да-да, отцу казалось, будто движение длится в синеву лепную, в роскошь зимнего финала…
Отец узнал одноклассника по лысине – было тепло, тот шёл без шапки, и жена держала его под руку.
— Привет!
— Здорово!
Жена одноклассника прошла вперёд, по направлению к гаражам, а тот задержался, глядя на малышка, уже вкатившего на пустую детскую площадку.
— Большой уже какой, а! Только что вроде в коляске возил.
— Три с половиной.
— В сад ходит?
— Давно уже.
Жена ждала одноклассника чуть поодаль, глядела не шибко довольно, и тот, неопределённо махнув рукой, поспешил.
Никогда особенно не общались, иногда, ибо жили рядом, встречались случайно, но разговоры плелись пустые – Ну как? Ну что?..
Малыш втаскивал машинку, включив музычку, чей источник был размещён под рулём, на горку – хотелось спустить её вниз, и лететь за нею – весело, с гиканьем… Он и летел – уже после того, как отец помог скатить машину.
Долго без ребятни не выдержит – это точно; сейчас поедем на другую площадку: вдруг там кто есть?
Сугробы уже ноздреваты, и прощённое воскресенье сегодня, но никому не звонил, да и не знал толком, стоило звонить? - достаточно одинокий; точно сознательно не хотел развязывать узлы нанесённых кому-то обид – или одиноко живущему и развязывать нечего?
Мысли, плотно и сложно плетущиеся, иногда отягощают жизнь, точно кули, нагруженные не только тобою, - но тащить их вынужден ты.
Малыш уже катит по сквозной дорожке, катит бодро, толкаясь ногами, не прося отца подтолкнуть; мчится по направлению к массивной арке – в доме их много – чтобы потом вылететь на улицу, и, когда пересекут её, въедут в соседний двор, где тоже есть пёстрая площадка.
С гофманианой всё более, или менее явно, а вот с гауссианой?
Логарифмы и интегралы, усмотренные в голых тополиных ветвях, вряд ли объясняют что-либо, и земная логика может скорее запутать, чем прояснить слишком сложные понятия.
Жизнь – движение многовекторное, и Князь Математики вряд ли знал о ней больше, чем Князь Литературы.
Но седобородый, благородного вида старик, идущий навстречу, едва ли потянет на архивариуса, ведающего столь многое.
Он идёт: этот старик – и площади криволинейных трапеций мерцают за ним следами дней, которые обычно не оставляют следов.
Мы пересекаем улицу – ибо подталкиваю машину с малышом: улица тихая, движения почти нет, но… вдруг?
Мы пересекаем её, огибаем угол дома, прокатываем мимо точно замёрзших машин, и вот она – детская площадка, тоже пустынная в это время.
Что ж, малышок, подвластный, как и все, земной логике, немного порезвится на горках и качелях, и скоро поедем домой.
ПРАЗДНЫЙ - НЕ ПРАЗДНЫЙ ПУТЬ
Три каменных колена Хохловского переулка, три кратких трубы, по которым прокатишься шариком воспоминаний, скромным звуком собственной судьбы…
Дом, где долгое время жил отец; дом, практически разорённый временем, пустой, неприятный внешне, явно идущий под снос, но не сносят никак покуда; приземистый массив красной старинной церкви, и напротив – несколько домов, как сундуки, хранящие частицы истории; поворот в Колпачный переулок логичен для человека, привыкшего к прогулкам по Москве.
Тут свернёшь в арку, и выйдешь к могучему, горной системе подобному лютеранскому храму: вот его нежно-кремовый массив, и дама-экскурсовод повествует группе туристов о фрагментах истории…
Мимо сугробов идёшь, думая – открыт ли собор?
Раз только и был – и внутреннее пространство показалось салатовым, пронизанным световым великолепием; службы не было, сидел на скамье, вслушиваясь в себя и в могучую пульсацию стен, и двое эстонцев у двери щёлкали и цокали словами, перебирая тонкие брошюрки.
Автобус ритуал – чёрная машина скорби – стоит под боком собора, представляешь обряд, хотя не знаешь, как строится у лютеран; врата огромны, и, потянув их на себя, убеждаешься в невозможности попасть…
Читаешь расписание служб, доходишь до строчки: Пятница – технический перерыв, и проваливаешься в проран непонимания: что делает тут ритуальный автобус?
Маленький дворик украшен рождественскими картинками – до сих пор, хотя плывёт надо всеми финал феврали, и, тщетно пытаясь представить людей, живущих в уютных, невысоких домишках, оглядев обвитые цветными гирляндами ветви, выходишь за ограду, чтобы остановиться, глянуть на славный взмыв башни с часами, на окно-розу, на закрытые врата – глянуть, и продолжить дальше праздный-не праздный путь.
О ДЕРЗНОВЕНИИ ПОЭТА
Дерзновение – в мире тотального прагматизма - верить в силу стиха, почитать стихосложение вектором языкового развития, и, не чая получить материальных даров, оставаться верным делу, некогда избравшему тебя.
Дерзновенное дело поэта – нищего, выброшенного из обихода яви, видящего сверкающую соблазнами действительность и знающего, что всё внешнее, сколь бы привлекательно оно ни было, это только внешнее, а главное в человеке – духовный корень, и поэзия работает именно на его укрепление.
Нет множества читателей? Не беда… Подлинные строки всегда дойдут до чьего-нибудь сердца, тронув его, и подлинность их – гарантия сего события.
Истинные стихи всегда будут ускорителем работы чьего-то мозга, ибо движение, в них заложенное, вертикально по своей сути, и чрезмерная горизонтальность нашей жизни есть не что иное, как неправильно выбранный путь.
О, мужество поэта, продолжающего свой труд, несмотря на сопротивление действительности, продолжающего его вопреки собственным срывам, провалам в пьянство, отчаяние, тоску, тщеславие…
Золотое мужество – сулящее золото строк.
ЭЛЬФ И ЕДИНОРОГ
Неброские краски улицы, и обычный поворот на другую – на углу которой обнищавший эльф просит подаяние.
Жалко становится, ибо… А что, собственно ибо? Никто не подаст эльфу, которого увидел только ты.
— Послушайте, э-э…
— Просто эльф.
— Послушайте, эльф, а что вы будете делать с деньгами?
— С деньгами? Может быть, превращу их в сиреневые кристаллы, подброшу вверх, и появится, сияя, единорог.
— Но если вы можете проделывать подобное, то зачем же вам деньги?
— О, они и являются основой всякой штуки.
— Любые?
— Ага.
Его простецкое «ага» вполне тебя убеждает, и, вытащив монетку, ты, сам нищий, протягиваешь ему.
Он берёт её в бледную тонкую лапку, подбрасывает, и из фейерверка сиреневых брызг вылетает великолепный, с золотисто-кипенной гривой единорог.
Он скачет воздушным путём, и…
— Ну что – за ним? – предлагает эльф.
— Как же это возможно?
— А как ты в кошмаре убегал от преследователей.
Да, в кошмаре я, убегающий, вспоминал резко, что умею летать, и взлетал…
Летать – в общем, как плавать: плавные движения брасса легко проносят тебя сквозь воздушные слои, и единорог, скачущий впереди, роняет золотистые полосы света.
— Послушай, эльф, а зачем ты всё же проступил в нашей реальности?
— Не в нашей, а в твоей. Другие же не видели.
— Как же тогда ты просил монетки?
— Ну, всегда находится кто-то, кто видит эльфа.
— А единорог? Куда он летит?
Но эльф не ответил, и я увидел поле, на каком паслись единороги; я глядел сквозь него, великолепное, и неброские краски улицы, вполне пустынной, проступали отчётливее, свидетельствуя о том, что надо возвращаться.