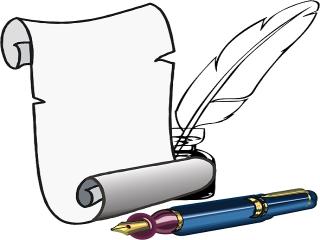МУТНО-МЫЛЬНЫЙ СВЕТ
Трамвай, катясь плавно и кругло, показывал, точно разрозненные кадры, городские виды, где панельные, брежневских времён многоэтажки, перемежались с нынешними домами повышенной комфортности, а широкие дороги изгибались, пропуская сплошной пёстрый поток машин.
Январский свет был мыльно-мутным, праздники давно отшумели, и обыденная жизнь дарила, как всегда, заурядностью.
— Как же ты не чувствовала пять дней, ма?
— А не пойму, сынок. Вот, если бы вчера программу по радио не услышала, и не поехала бы в травмпункт. Ладно, даст Бог, всё обойдётся.
Седобородый сын в старой заношенной дублёнке, не реагирует на Бога, отворачивается, глядит в окно. Панорамы городские скользят и сквозят, и видно, как на заснеженных площадках дворов, резвится ребятня.
Пять дней назад мама, переходя улицу, была задета машиной.
Ничего страшного казалось, но всё вздыхала:
— Как же со мной такое случилось, не пойму… Всегда перехожу так осторожно…
Нога побаливала, стала пухнуть, и вчера вечером, мама, слушая радио, была подхлёстнута какой-то медицинской передачей… сын не ведал, какой именно.
Она засуетилась, стала собираться в поликлинику; сын посмотрел в интернете травмпункты на их улице, но ни одного не обнаружил.
Он сидел с болеющим малышом, какой, не смотря на отит, оставался резвуном, шумным игруном, вечным двигателем.
— Не могу с тобой, ма.
— Да, понятно, сынок. – Мама собиралась быстро: вечер стремительно, как оголтелый мальчишка с горки, катился в густую, фонарную тьму.
— Телефон мобильный возьми.
— Конечно, конечно.
И она ушла, а бездна квартиры огласилась кличем малыша, забравшегося на сооружение из подушек, и плюхнувшегося вниз.
Жена задерживалась в офисе.
Куски времени валились в никуда; мама написала: "Очередь, жду".
Потом позвонила, сказала, что рентген показал трещину, что предлагают наложить гипс, не знает, соглашаться ли…
Она вернулась поздно, решила завтра утром ехать.
— Разумеется, стоит наложить, - говорил сын. – Учитывая твой возраст, ма…
Они ехали утром сквозь мыльно-мутный свет финала января; корпуса больницы, пышно и мощно раскиданные по огромной территории: той больницы, в роддоме которой появился малышок, проплыли, точно крепостные сооружения; тянулись всяческие городские подробности…
Вышли – он держал маму под руку – на одной из остановок (тоже: звенья цепи, подумалось почему-то сыну), свернули в ущелье между многоэтажками, в бело-синеющий зимний провал, под снегом которого предательски таился чёрный лёд.
— Осторожно, ма.
— Да, да, сынок.
Поворачивали, переходили улицу, снова поворачивали.
— Там затрапез такой советский, - говорила мама. – Но врач молодой, улыбчивый, показалось: хороший.
— Надеюсь.
Они вошли.
Обширный квадрат помещения, и люди: кто с перебинтованной рукой, кто на костылях: все по двое: выросшие дети с пожилыми мамами и отцами; и вороха бахил прозрачно синеют в огромных пластиковых ёмкостях.
Сын натягивает на массивные свои сапоги…
— Да, тебе не надо, наверно…
— Как? С тобой не идти?
— Нет, что ты. Вот здесь всё, на первом этаже.
— Ладно, надену на всякий случай.
Мама оставляет пальто, шапку, платок на пластиковом кресле, чей ряд белеет, уходя к дверям, за какими изгибом, мерцающим янтарно, видна лестница.
Мама уходит, сын достаёт мобильный, и начинает, приготовившись к долгому ожиданию, читать и стирать письма – в основном от жены, и свои, посланные ей же, в большинстве: о малыше, о его жизни.
— Вот и всё! – слышит сын и видит улыбающуюся, точно помолодевшую маму.
— Как? – он вскакивает удивлённо. – А Гипс?
— Уже наложили. Он тоненький.
— Ты сможешь идти?
— Конечно. Трещина всего лишь.
И они одеваются. И они совершают обратный путь.
И снова город – его части, фрагменты, не самые красивые, разумеется – качаются в окнах трамвая, неспешно, плавно, едущего, плывущего через мутно-мыльный свет финала января.
500 ЛИР САН-МАРИНО
Ко следам на снегу добавляли свои, быстро распутывая вязанки московских дворов, приближаясь к цели.
— Сколько стран у него говоришь?
— Меньше, чем у тебя, договоритесь.
— А Пыля меня с ним знакомить не захотел.
— Ещё бы! Ты ж можешь выменять пятьсот лир, а он – нет.
Они говорят о монетах, о свежем увлечении всего класса – шестого класса советской школы; и… что могут собирать мальчишки? Разнообразную мелочь всего мира: пёструю, с жирафами и неизвестными генералами, парусниками и осьминогами, когда названия стран конкретизируются по сравнению с рисунком на географической карте, и, кажется, вот-вот и сумеешь там побывать, раз уж заполучил монетку, которой аборигены расплачиваются за еду и счастье.
Но вот родители привезли одному из мальчишек годовой набор монет Сан-Марино; тот думал, думал – да и вскрыл пластиковую коробочку, и стал менять монетки, и самую крупную, серебряную, 500 лир, на которой летели неподвижно три птички, сменял Саньку – Пыля, сосед которого, отказался знакомить с ним Сашку, обладателя самой большой коллекции, и вот ведёт последнего Вадик: ему всё равно, Санька знает, а монетами не особенно горит.
Подъезд «хрущобы» тесен и тёмен, лестница вся в мокрых, грязных следах, и закутки квартир представляются остро, неприятно.
Вадик звонит в дверь одной и квартир первого этажа, и Санёк появляется – худой, на два года старше, глядит подозрительно, и Вадик говорит, представляя:
— Знакомьтесь – оба Саши, ха-ха. Тот, которого я привёл, будет у тебя Сан-Марино менять!
— Ну да, так я и отдал! – Отвечает Санёк презрительно.
— У меня 150 стран, - говорит Сашка резко.
— А у меня – 120, - отвечает Санёк, наигрывая равнодушие, но глаза его блестят.
— Вот видишь, я за Сан-Марино дам тебе десять, или двенадцать монеток.
— Да? Надо подумать. Заходите, ладно.
— Не, я побегу. – Говорит Вадик. – Познакомил вас, дальше сами.
Сашка в комнате Санька – узкой, напоминающей увеличенный пенал. На жёлтой, пятнистой столешнице – пластмассовая коробка из-под чего-то, выстланная поролоном, и на нём – монетки. Сан-Марино – единственная серебряная – в центре, сверкает.
— Во, гляди, - Санёк достаёт монету, показывает.
Сашка берёт осторожно, за гурт, как и полагается нумизмату, вертит, разглядывает.
— Ну вот, я могу дать тебе… - И он перечисляет, перечисляет: названия африканских стран звучат, как музыка, и слова, эти экзотические имена, точно мерцают, переливаются радугою.
— Двенадцать? – переспрашивает Санёк.
— Ага.
— Ладно, неси, посмотрим.
Сашка бежит – он бежит домой, скорее, скорее, ведь серебряные монеты мало у кого есть; он бежит дворами, сокращая дорогу, и дома смотрят на него бессчётными окнами; он бежит, забыв про уроки, которые зачем-то надо учить, он лихорадочно, не раздеваясь, вытаскивает альбомы (мама привезла из командировки в Польшу, ни у кого больше нет), и быстро вытаскивает из ячеек африканские монетки.
Он бежит назад, и внутри у него поёт нечто – так звучит предчувствие.
— Не, - говорит Санёк придирчиво. – Нигерия не пойдёт, старая – 52 год. Я только новенькие люблю.
— Ладно, Кению дам.
— Есть у меня.
— А Мавритания?
— Эту тащи.
И Сашка снова бежит назад, прячет Нигерию, достаёт Мавританию…
И вот монета в 500 лир у него – заветная, яркая, с тремя птичками; он рассматривает её по дороге домой, он любуется ею – блестящей, будто снег, он идёт медленно, словно наслаждаясь каждым шагом.
О беспрецедентном обмене долго судачили в классе, и даже в школе…
Отец, идеальный отец Сашки, стимулировавший каждый его интерес, будь то история театра, или нумизматика, покупал ему потом серебряные монеты – и их набралось немало: в коробке из под чертёжных принадлежностей, было устроено хранилище: постлан вельвет, простроченный бабушкой, и в ячейках лежали…
Потом был криз пубертатного возраста, расколовший привычный мир, кинувший в бездну тотального чтения, индивидуального посещения школы, с трудом пробитого родителями; потом…
Жизнь вращает цветным водоворотом, и Сашка находит себя в молодёжной компании, связанной с его работой в библиотеке, и ему так хочется водить парней и девчонок в кафе, и он продаёт монеты, и… жизнь клубится дальше, идёт винтами…
Почти пятидесятилетний Александр, такой же мальчишка внутри, будто ядро осталось без изменений – мечтатель-сочинитель, много чего (и вполне напрасно) опубликовавший, порой покупает монеты – только серебряные, такие, какие позволят средства.
Детский калейдоскоп точно стреляет картинками, и, отправляясь в очередной раз на ярмарку увлечений, где в многочисленных отсеках каких только монет не найти, он думает: не купить ли ту монету Сан-Марино?
Он словно видит себя, бегущего по снегу к Саньку, с монетками, позвякивающими в кармане, он думает, что между несколькими пунктами улеглась сложная, туго напряжённая, и такая же не понятная, как в детстве жизнь, он испытывает тяжёлую пустоту – от иных воспоминаний, от суммы всего, от ранней смерти отца, переживаемой до сих пор, от многих неудач, напластовавшихся друг на друга, и, топча такой же, как в детстве снег, мыслит, что был бы не прочь вернуться туда – в советское детство.
…что также невозможно, как приобрести, к примеру, хотя бы один папский пиастр.
ПАУЧОК
— Что же вы, Санюшка, паучка в ванной смыли?
— Разве? Он часто там появляется.
— Может это братик его. Или ещё какой родственник.
Они идут по коридору квартиры, ночью обращённому в таинственный лабиринт, и стёкла многочисленных книжных стеллажей, ибо коридор больше похож на библиотеку, вздрагивают иногда, точно напуганные движением дальних трамваев.
Свой язык, выработанный пожилыми супругами, иногда оставляет их – он не подходит для заскорузлого плана ссор и пустяшных высверков конфликтов; он требует гармоничного состояния духа, и благостности, какая редко озаряет своды человеческих душ.
Муж двигался в комнату из кухни, где дописывал финал рассказа, жена выходила из ванной, и несколько минут, что требуются для пересечения коридора, были окрашены языковой гармонией, моментальной вспышкой счастья.
Муж часто видит в ванной паучка – ему думается в этот миг, что одинок, многолапый и многоглазый, как он, человек, ибо ядро его с детских лет плавилось, текло, переливалось одиночеством, имеющим разные – от золотистого-лимонного до траурно-черного -оттенки.
Он никогда не смывал насекомое, но всегда осторожно, свернув газету, высаживал его за бортик ванной, отправляя в неведомую, неизвестную жизнь. Вероятно, у паука достаточно своих лабиринтов.
Комната, усложнённая недавно приобретённой кроватью для малышка (пожилые супруги – молодые родители), представляет контуры предметов старинными крепостями, и стёкла шкафов за которыми стоят не только книги, тускло отсвечивают, улавливая различные световые источники двора: там синей белизною играют снега, и конусы фонарей выхватывают фрагменты не сильного снегопада, а в соседних домах мёд и янтарь окошек добавляет таинственности такому прозаичному миру…
Малыш охотно резвился в новой, куда надо подниматься по выдвижной лесенке, кровати, ящики под ней, пахнущие деревом, заполнял полдня игрушками, и, выдвигая и задвигая объёмные, ликовал, что всё влезло; он забирался по лесенке снова, прыгал, смеялся, но спать пошёл в родительскую кровать, и теперь, беленький, нежный обняв подушку, сопит у стены.
Супруги ложатся.
И муж, долгое засыпание для какого обычное дело, думает о паучке, чья неизвестная, туго наполненная, лишённая осознания жизнь также проходит к различных лабиринтах, как жизнь большая, человеческая, запутанная мотком шерсти, столь понятным для бабушки судьбы.
Муж ворочается, вздыхает, встаёт, и сначала курит в туалете, а потом на кухне садится к столу, сочинять стихотворение про паучка.
НЕ СТАЛ РЕКВИЗИТОРОМ
Декорации стояли у стен торчмя, плоские и безжизненные, прозаично изъятые из пьес, чья насыщенная жизнь бередила души и вызывала слёзы; и по лабиринтообразным театральным коридорам двое несли комод – восемнадцатилетний парень, решивший устроиться реквизитором в известный театр и молодой – но постарше его – работник: в ухарской куртке и фуражке.
Парень натужно сопел, неудобно взялся, и, чувствуя, что комод сейчас вывернется из рук, старался, как мог, понимая – нельзя уронить.
Донесли.
— Вот видишь! – весело сказал парень. – А таскать так приходится постоянно. А во время спектакля, когда смена декораций, быстро надо.
Парень вздохнул.
Недра театра наваливались разнообразно, таинственно, и вместе – банально как-то: уж очень много быта.
В маленьком коридорчике парень столкнулся со знаменитым артистом, и отвёл глаза, вдвойне почувствовав себя никем.
Артист в шикарном костюме нервно ходил взад-вперёд и глаза его блестели.
— Эй, посторонись! – отнеслась к парню весёлая наглая девица, тащившая на подносе баночки с красками. – Не видишь? Разлить могу…
Парень отшатнулся, дёрнулся в сторону, не зная, куда идти.
— Виталий Игоревич! – девица обратилась к артисту, - у нас всё готово. Идёмте. И они ушли.
Парень разговаривал ещё с какой-то дородной тёткой, но праздно, бессмысленно – он понял уже, что ни он этой работе, ни она ему не подходят.
Взаимное отторжение сделало его грусть окончательной, тяжеловесной; он не спеша оделся, и вышел на улицу – в зимнюю Москву, в один из упоительных её переулков, идущий параллельно бульвару с великолепной витой оградой, и, разглядывая дома, каждый из которых имел тут своё лицо, направился к сверкавшей шайбе метро.
…всю жизнь путаться в бытовых мелочах, извлекать по десять раз из кармана мелочь, пересчитывая, не потерял ли, мелочь, звякающую о ключи, западающую в прорехи; утром в супермаркете покупать молоко, вытаскивать сумку, да так, что бумажка со старой записью, забытая в кармане полетит на пол; держать в руках пакеты, выгребая сдачу из лодочки над кассой и зажимая между пальцами чек…
Наконец, уложены пакеты, сдача отправлена в карман, чек – в мусорную корзину; и можно выйти в зиму – не изменившуюся с юношеских его времён, сияющую снежно-сметанными сугробами, скрипящую суммами великолепных дорожек…
Он поворачивает во двор, минует детскую площадку, пустующую из-за мороза и раннего утра: он тоже отвёл малышка в сад, и теперь, проходя тропкой вдоль ограды дома повышенной комфортности, возникшего из развалюхи, будто Феникс из пепла, он и думает о своём тяжёлом, тугом, надоевшем отношении к быту.
Он думает об этом вязко, нудно, не зная, как у других, не зная, зачем ему суждено было стать сочинителем – и параллельно с этим – вспомнив старый кадр из фильма судьбы: кадр, обнаживший недра театра, и его желание поступить туда реквизитором.
А знаменитый артист давно умер.
Пожилой человек криво улыбается в бороду, поднимается по лесенке в свой подъезд, стучит крупными сапогами, стряхивая снег, и привычно открывает дверь.