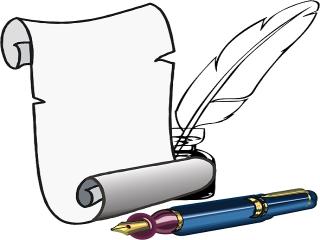ЕДИНСТВО
Итак, собирали они чернику – на поляне, крытой ювелирно вырезанной листвой, таящей под собою чёрные, матовые ягоды; собирали, увлекаясь процессом, втягивающим в себя, точно водоворот; а машина, вдвинутая в древесную арку, точно наблюдала за ними.
— Смотри, крупная какая! – воскликнула жена, показывая ягодку мужу, как игрушку.
Лицо её разгорелось, и улыбка плавно текла по губам.
— Ага, - отвечал он, отправляя свою в корзинку.
— Много наберём. Варенье, потом протру с сахаром.
Муж сел на траву, достал сигареты, закурил.
— Ну, зачем ты тут куришь? Лес такой роскошный…
— Так. Ты ж знаешь, для меня сигарета – как беседа. А то всё быт, быт…
— Как без быта можно?
— Он затягивает. Он съедает жизнь.
— Ну перестань. – Жена ползала, отгибая листья, выбирая ягодки… Нет, она обрывала их все – прекрасные изделья неизвестных ювелиров.
— Мне ягоды кажутся ювелирными издельями византийских мастеров. – Сказал муж, выпуская колечки дыма.
— Да ну тебя...
— Ты и не помнишь, что я – поэт.
— Да, мне, в общем, не до поэзии…
Как-то наплывало, вставало стеной, горько давило. Нечто вихрилось в сознанье, проходя по лабиринтам мозга смерчеподобным витьём; ссора зарождалась исподволь, назревала нарывом, он прорвался, тяжёл.
Муж кричал, жена кричала в ответ.
— Мы разные настолько, что ничего общего не осталось!
Это звучало с обеих сторон, и люди на этот период, перестав быть плотью единой, превратились во…
— Что? Что такое, Ваня?
Он, вставший во время ссоры, отошедший к дереву, стал оседать по стволу, держась за сердце.
— Что? Что?
Он бледнел на глазах, лицо становилось матово-синеватым, перламутровые капли пота выступали на лбу.
— Сердце, да? Сейчас…
Бросив корзинку, наступив на горку высыпавшихся ягод, она бежала к машине, открывала аптечку, спешила к мужу с таблетками.
Они сидели у ствола, обнявшись, через какое-то время, молчали, муж отошёл, и понимали, ощущали единство субстанции, в какую превратились давно, двадцать лет женаты, единство, в котором трещины не могли отменить то, что не было ближе никого ни у него, ни у неё, единство, которое и было жизнью…
НЕТ ОТВЕТА
Белый, остромордый, тугоухий пёс прыгает на лестничной площадке – утром, выйдя в магазин увидел, не понял, что произошло.
Пёс дружественный, кинулся к нему, подскуливая, царапая дверь – это соседский.
Позвонил, постучал, подёргал ручку.
— Что же случилось? Почему ты тут? Забыли тебя?
Пёс прыгает, нервничает, скулит.
— Сейчас, подожди.
Открывает свою дверь, кричит:
— Ма, у тебя телефон соседей есть? Собака их тут!
Мама выскакивает:
— Как? Что?
Собака нервничает, красива, глаза блестят.
И спрашивают её, будто может объянить.
— Иди пока к нам, - говорит мама. – Не отвечают на звонки.
— И в дверь стучал, никого. Записку что ли написать?
Их там трое – пожилая, очень деловая мать, сын уже в возрасте, его жена; дочь взрослая, живёт у мужа.
Записку укрепляет в щели дверной, не найдя, куда лучше пристроить.
— Не могло же сразу со всеми что-то случиться!
— Сынок, посиди с ним, я в магазин схожу.
— Я пройтись хотел.
— Ладно. Попозже выйдешь, я сумки в ячейке оставлю. Они Мо его зовут. Мо, Мошик!
Пёс прыгает, вертит хвостом, в глазах его горят тоска и недоумение.
Мама собирается, спохватывается:
— Ой, сейчас на диванчик на кухне что-нибудь постелю.
И кидает старый, ненужный уже халат.
И вот – вдвоём с соседской собакой. Пёс обследует коридор, обнюхивает всё, что попадается, находит шарик – ими играет малыш, который сейчас в саду, притаскивает хозяину квартиры, сидящему на валике старого, массивного кресла.
— Поиграем, да?
Пёс и не отдаёт мячик, и хочет бежать.
Всё же отдал, и – мчится по коридору, спотыкается, но, проехав чуть, переворачивается, и, схватив мячик, оборачивается, глаза его сверкают прозрачными изумрудами, подбегает, снова просит кидать.
…будто Лавруша вернулся: была у них своя собака, долго жила, другая совсем, наполнявшая дом счастьем, цоканьем коготков по паркету, лаем и вот…
— Лови, Мо!
Он мчится, снова приносит мячик…
…и был ещё – у других соседей – Чарлик, такса – гостил, бывало, мог просидеть целый день, это ещё до Лавруши… Случалось сосед – а уехали отсюда много лет назад – утром звонил в дверь, улыбался:
— Чарлик в гости просится.
Ничего не произошло, а он уже тут – шмыгнул между ног, и не заметили.
Мо волнуется, дышит тяжело, язык свешивается. Подхватив его на руки, человек идёт на кухню.
— Ну, давай вот в окно посмотрим. Что там – гляди? Снег, да? Февраль всё тянется. Где же твои, а? Что у вас случилось?
Потом, в маминой комнате, пёсик обнюхивает детали детского конструктора, кресло, находит ещё один шарик, бежит с ним…
Звонок прорезает пространство квартиры. Сосед – сам удивлённый – стоит в дверях. Собака кидается к нему, он подхватывает деловито, как свёрток.
— Что у вас случилось-то?
— Спасибо, что взяли, ничего не случилось, а где он был?
— По лестничной площадке метался. Пришлось взять.
— Как оказался-то? Вот не пойму. Ольга что ли упустила?
— А ты только пришёл?
— Ну да. Спасибо.
— Да не за что…
Сосед открывает дверь, держа собаку подмышкой, - живой свёрток, ни дать-ни взять.
Соседи закрываются в квартирах, и на лестничной площадке виснет пустота… Что хранит она, какие тени, какие образы нашего бытия? Нет ответа.
ПЕРЕХОД К ВЕСНЕ
— 66 сонет Шекспира никто не отменял!
— Однако и не ставил его руководством к действию.
— Тем не менее, ты посмотри, что вокруг делается!
— А что?
— Совесть отменена, как понятие, добро за ненадобностью сдано в архив. В стране установился новый феодализм, и так далее.
— Да брось! Ты просто не вписался в современность.
Линия белизны ржавеет, распадается; сугробы ноздревато-уродливы, и февраль, точно переломленный в сердцевине, медленно теряет свои права на реальность.
Трамваи с равнодушными бульдожьими мордами медленно катятся посреди небольшой улочки, вытряхивая людской скарб на положенных остановках.
Малыш, гуляющий с отцом в то время, когда бы надо ему быть в саду – прыгает по серовато-бурым лужам с весенним восторгам, а воробьи во дворах расчирикались так, будто завтра апрель.
Один из приятелей улыбается, делая широкий жест рукой, точно тщась обнять пространственное богатство:
— Посмотри, зима прошла. Весна скоро.
— Ещё не скоро. Март прожить сперва надо, не говоря уж о феврале.
— Да ладно, тебе. Вон как малыш радостно скачет!
— На то он и малыш. Кстати, ты заметил, что в ребёнке заложены изначально эгоизм, обидчивость, себялюбие, агрессия, и никакого намёка на сострадание и добро? То есть, они…
— А по-моему и они заложены. Просто сквозь тонкую плёнку личности проступают позднее.
День набирает обороты, раскрываясь огромным цветком суеты.
Лепестки витрин и контор, текущая огнями реклама, гигантская жизнь учреждений, мелкое движение человечьих множеств, организованное в единый цветок дня – который чуть надорвут сумерки, чтобы после сорвал густой, ранний ещё вечер.
Но не такой ранний, как в январе, не говоря про декабрь: у зимы вырывают посох, и снежная крепость, как свеча, оплывающая во дворе, точно улика весенней шалости.
Можно жить. Но – жить можно в любых условиях, ибо приспособляемость человека более изощрённая, чем мимикрия простых существ.
Студенты группками и стайками возвращаются в общежитие, и трамваи по-прежнему вытряхивают своё живое содержимое на нескольких остановках, размещённых вдоль улицы.
Властный старик – прямой, как приказ – несёт в сумке кое-что из съестного, в том числе лакомства для внука, при виде которого глаза его - жёсткие вообще, умягчаются, наполняясь лазоревым блеском.
Некто кричит в мобильный так, что прочие участники улицы становятся участниками вовсе не нужной им сделки.
Будь осторожен со своими локтями и челюстями: не толкай соседа, и никого не кусай.
Жарко спорят на лестничной площадке, дымя, глядя мимолётно в широкое стекло, соседи:
— Будет в стране взрыв, ручаюсь тебе. И год сей – столетие семнадцатого – не может себя не показать.
— Ты так говоришь о взрыве, будто жаждешь его, а между тем, подумай, сколько крови прольётся!
— Я не жажду – констатирую и анализирую.
В лужах во дворе растекаются радужно пятна бензина, и то, что февраль может на прощанье пошутить морозом не слишком страшно уже.
Не слишком.
Я НУМИЗМАТ
Я нумизмат. С того первого детского момента, когда в книжном шкафу отца я нашёл жестяную коробочку из-под специй, и, открыв её, обнаружил разнообразную мелочь, монеты расцвели для меня таким недоступным в советском детстве миром – расцвели, давая богатство ассоциаций, в которых мелькали огни ушедших империй и личности генералов, а отчаянные полководцы сами возглавляли войско, не боясь получить пулю.
О, в той коробке была только мелочь, и, разглядывая её, я спрашивал у отца – А что такое Гельвеция? Или – Что это за король изображён на гранёной монетке?
Отец улыбался, он говорил: Давай, сынок, посмотрим в энциклопедии, полистаем книжки…
И мы листали, узнавая, что Гельвеция – это Швейцария, а король – Георг шестой…
Потом в объективе моей жизни появился клуб нумизматов: туда попадали из арки, в сущности, клуб был подвалом, где раз в неделю, по воскресеньям, собирались фанатики-коллекционеры, и куда детей не пускали.
Я топтал снег возле дома, пока отец покупал африканскую и азиатскую мелочь; увлечённый, он выскакивал без шапки, со сбитым шарфом, и кричал:
— Я Мавританию тебе купил! Или Маврикий.
И точно очерки пальм проявлялись миражами в синеюще-белом пространстве дня.
Мы шли домой, обсуждая событие, и меня уже интересовала дальность, древность, глубины, штольни былого; я читал книги, из которых можно было узнать историю талера, или выяснить, когда и кем использовался батцен.
Однажды – с мамою уже – мы ездили в гости: к родственнику нашей родственницы, который был разведчиком, попросту шпионом, закамуфлированным, конечно, и большую часть жизни прожил в ФРГ, ГДР, Австрии, заполняя досуги нумизматикой.
Жена его выносила тяжёлые самодельные альбомы в комнату – из другой, где стояли они… Я не узнал, но представлял это мощное положение переполненных альбомов; и, листая их на табурете, почти не слыша разговоров мамы с его женой, отъединялся от реальности, думая, что вот – такова и есть: мир монет.
В трамвае, когда возвращались домой, я сказал маме:
— Здорово, да. Но – главное, чтобы монеты не стали жизнью.
Про себя подумав: А почему бы и нет?
Потом клуб переехал – он переехал в бывшую церковь, пространства стало больше, а собрание сделались многолюднее, и меня уже пускали, но только потому, что отец платил трёшку – советскую, зелёную купюру, и я был единственным ребёнком, блуждавших среди мерцания серебра и тусклого отлива меди.
Позже ездил один, мечтая втуне, чтобы именно монеты и определили жизнь…
Вороха событий, мелькание юношеских лент: закружившая компания, когда хотелось водить девушек в кафе, и шляться вечерами, выпивать и курить западные папиросы; а монеты… Они ушли на задний план, как нечто не существенное – и сам не успел понять, как продал серебряные экземпляры, тратя деньги на чепуху.
Жизнь слоилась, снова вороха событий погребали под собою: много траура порою будто отменяло реальность – смерть отца, близких родственников, собственное неустройство в жизни…
…в ней и нельзя устроиться, сочиняя стихи и поэтизируя монеты: о! в денежном слоение реальности тебя будут печатать, но без связей, вне тусовки ты просто никому не нужный фрукт, могущий перечислять издания, где был опубликован только для того, чтобы не ощущалось, что жизнь прошла зря.
Монеты вновь входили в объектив реальности: сначала чтением о них и рассматриванием картинок: интернет предложит лицезреть любые; потом с одноклассником, с которым сохранились лёгкие, вполне необязательные отношения, предложил сходить на ярмарку увлечений, где в десятков отсеков можно было найти…
Но проще перечислить, чего там не оказалось.
И – воспоминание о советском клубе померкло; и стал бывать на ярмарке, выкраивая деньги, тратя скудные гонорары, и мечтая, мечтая о собственной нумизматической лавочке.
…вот отец возвращается с работы – я всегда встречал его, рассказывал о школе; он улыбался, он задавал вопросы. Он сказал:
— А вот сегодня принёс кое-что интересное.
И извлёк из портфеля-дипломата каталог монет мира – не роскошного Краузе, конечно, всего-навсего Йомена, но – дух захватило, и, листая глянцевые страницы, заявил я, что просижу над ним весь вечер.
— Ну, не стоит, сынок. – Сказал папа. – Я же купил его. У тебя будет много времени смотреть.
А вот толкучка возле прудов, в заснеженном лесу: всё продают – книги, марки, календарики, и – монеты, монеты: в пластмассовых, самодельных планшетах, в альбомах, привезённых из Польши, или других стран советской демократии.
И запах серебра (представляете! серебро пахнет!) сливается с запахом снега, и скрипят дорожки, и мерцают синевою.
…мускулами перевитые, потные люди, оттиснув штемпели, высекают специальной трубой талеры из раскатанного листа – кругляши блестят, они великолепны, и современность средневековья реальнее взгляда из московского окна.
Купец в своей лавке неспешно, прищурив глаз, подсчитывает батцены, делая записи круглым, тяжёлым почерком в гроссбухе: Ганзейский союз процветает.
Столбики испанского золота громоздятся на столике зевающего вельможи-игрока, какому всё равно, сколько проиграть…
Нумизматическая лавочка судьбы становится интереснее библиотеки оный, лабиринт который чреват – не просто проигрышем, а тотальной личностной катастрофой.