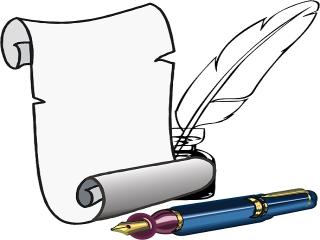СПЛОШНАЯ СИМФОНИЯ ЖИЗНИ
Мама возвращалась с работы, он – десяти? что ли летний – сидел на скамейке у подъезда и курил сигару: мама работала в Торгово-промышленной палате, и приносила домой товары, которые сложно было купить в Союзе.
Он был очень нестандартный мальчик: рано начал писать, определившись, что жизнь его будет посвящена литературе, мрачный, самоуглублённый; он сидел, в домашних трениках и толстой куртке, и, не затягиваясь, выпускал дым, и мама, а он и не пытался спрятать сигару, сев рядом, сказала: "Ты будешь курить, да, будешь. Опять плохо?" Он кивнул.
Она говорило то, что текло мёдом по сознанию, текло, успокаивало… хотя какое спокойствие может быть у Козерога, который выходит из мистической воды на предложенную сушу, мается до тридцати лет, потом, накопив сил и опыта, делает то, к чему был предназначен, и возвращается в воду, как в смерть, за которой прозрачные слои…
Так сказал знакомая ясновидящая – взрослому, или считающемуся таковым человеку, который ходил к ней часто когда-то – и был тем самым ребёнком, курившим сигару.
Она умерла рано, в 55, и он всё думал – знала ли об этом.
А вот отец – та же мизансцена – возвращается домой, и сын, отдавший рассказ отцу, сидит на той же скамейке, не курит, нет, сидит – мрачный, тяжёлый, одолеваемый думами, из каких и взрослому не выйти без потерь…
Отец садится рядом, поставив дипломат между ног. Он говорит: "Ты знаешь, мне очень понравился твой рассказ."
Едва ли расцветает сын, пробовавший потом, уже большим, печатающимся, переписать несколько раз тот, детский, про мальчика, что вставал каждой ночью смотреть на звёзды, пока не понял, как страшна темнота.
Ничего не вышло.
А вот – юноша возле гроба отца в поминальном зале. Никто не знает, когда умрут отцы, но ощущения девятнадцатилетнего человека, потерявшего своего, слишком сильны, чтобы замечать орнаменты лиственного опада.
И монтируется бесконечным фильмом, сплошной жизнью – вышел из больницы, чьи огромные корпуса отдавали чем-то вавилонским, узнал, что в реанимацию к отцу не пускают, сел на скамейке соседнего сквера, и под грай ворон, точно предвещавший не доброе, зарыдал.
Через два часа, когда уже был дома, позвонили, сказали: "Ваш папа умер".
Вселенная обрушилась.
Вселенная возродилась.
Одно цепляется за другое в симфонии сплошной, вечной жизни, и ребёнок, куривший сигару на скамейке у подъезда, входя в недра рассказа через горловину его начала, не имеет представления о последующем, как не мог представить пятидесятилетний человек, что превратиться в такового посредством маленького того, домашнего, книжного, первый раз попробовавшего курить ребёнка…
КАК СЛАДКО ЖИТЬ!
Любовался подаренным ему великолепным брегетом, нравилось, как ребёнку заводить, рассматривать циферблат даже…
— Наталья, - крикнул давней своей сожительнице, - иди, полюбуйся!
И – хоть пожилая, но всё равно красавица – вплыла в богато обставленный его, лоснящийся роскошью кабинет, улыбаясь, склонилась к запястью.
— Да, хорош, - выдохнула она.
Нарушая все уложения Трулльского собора, он жил под одной крышей с не матерью, и не с сестрой – с любовницей; проколовшись лишь единожды публично: германский журнал опубликовал их совместное фото, и, не искушённый в тонкостях православия, написал, что церковный иерарх хороший семьянин.
…Ему сложно теперь ответить – верил ли он когда-то; убеждённый, что церковь – надёжное средство держать в узде толпу, плюс шикарная возможность реализовать свои властолюбивые и корыстолюбивые амбиции; он давно не задумывался о подобном; а ведя праздничные, сверх-богатые службы несколько отвлекался на величие церковное, думая: А! ладно… стоит ли ломать голову есть, или нет…
Вероятно, мальчишкой верил, или хотя бы казалось так.
Когда карьера стала поднимать его круче и круче, видя всё устройство тогдашней церкви, гебезированность её, торгашество, готовность ради выживания лизать руки любому государству, понял, что если умело хитрить, лавировать и т. п., можно неплохо преуспеть на данном поприще, и – двинул, не раздумывая.
Сегодняшние дни его насыщены делами сугубо земными: встречи, переговоры, перемещение на дорогих лимузинах, на частных самолётах, отдых в роскошных поместьях и на шикарных яхтах, и то, что выступает он порою со страстными проповедями, захлёбываясь, цитирует святых отцов, несколько странно и самому ему, давно не видящему за внешнею ширмой ничего существенного…
И только иногда, когда томит бессонница, будто ледяная жуть накатывает: А вдруг?.. Ведь тогда придётся отвечать – за всю ложь, все торговые сделки, роскошную жизнь, лживые проповеди, и проч., и проч.
И гонит от себя мелькнувшее страшное, гонит, встаёт, выпивает дорогого коньячка, и возвращается под тёплый бок своей любимой Натальи.
Ничего, скоро юбилей, будут писать о нём, как о великом зиждителе веры, будут дарить драгоценные подарки…
Ничего!
Как сладко жить!